ОЛЬГА МОТОВИЛОВА
ОЛЬГА МОТОВИЛОВА

Ольга Мотовилова
Писатель
Писатель, редактор, меломан. Сфера интересов Ольги — научно-популярная литература, книги о любви и стремлении к счастью, классическая музыка и эмоциональный мир людей, их взгляды, мотивы и ценности.
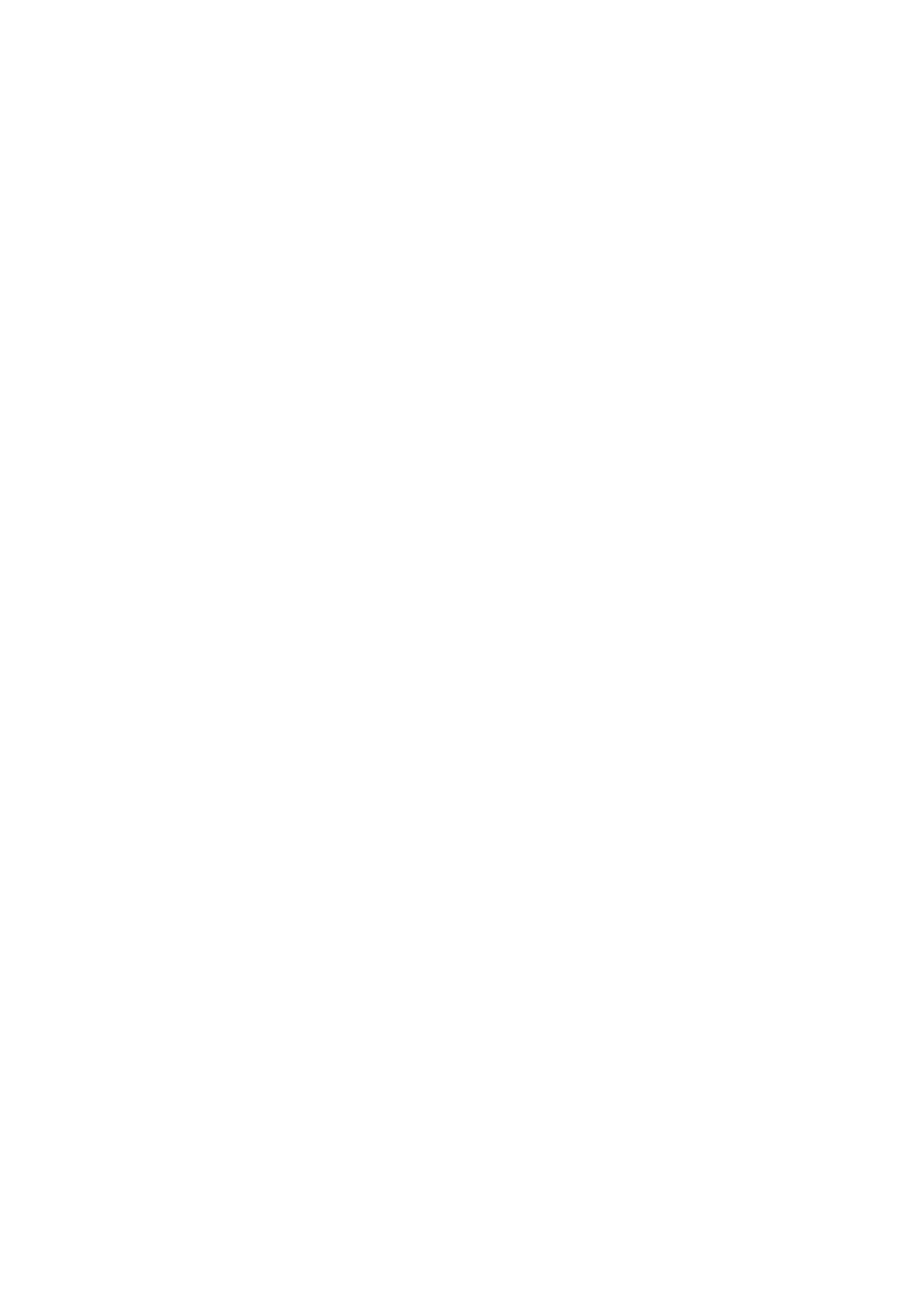
Солнце моей войны
Июль сорок третьего.
Позади — Сталинградская битва, и сотни искалеченных солдат борются за жизнь в районном госпитале. В телесных и душевных муках, в вихре бушующей войны, назло смерти и боли зарождается любовь.
И верится, что заживут все раны, пройдут все беды, и счастье снова заглянет в дом. Но у войны свои планы...
Подробнее Позади — Сталинградская битва, и сотни искалеченных солдат борются за жизнь в районном госпитале. В телесных и душевных муках, в вихре бушующей войны, назло смерти и боли зарождается любовь.
И верится, что заживут все раны, пройдут все беды, и счастье снова заглянет в дом. Но у войны свои планы...
Солнце моей войны
Записи во фронтовом дневнике сержанта были краткими, торопливыми. Имена, события, даты широкими мазками рисовали картину бесконечной изнуряющей войны. И лишь одна история раскинулась на несколько страниц: слова бежали стремительно, буквы наседали друг на друга, словно сержант извергал на бумагу саму свою душу, желая навек сохранить в рукописи пережитые минуты.
Я стою посреди бескрайнего василькового поля. Щурясь от яркого солнца, смотрю на свои огрубевшие в боях руки и вижу, что пальцы до сих пор неистово сжимают пулемёт, хоть фашистов мы разбили ещё вчера. Ветер лихо срывает пилотку с моей головы и уносит прочь. Всё позади! Война закончилась! Я швыряю оружие в сторону и захожусь радостным смехом. Хочу мчаться вперёд, в бесконечную синеву, но падаю, не в силах двинуть ногой…
— ...Семён, дать воды? — Голос медсестры вытащил меня в реальность.
Я почувствовал себя младенцем, которого насильно извлекли металлическими щипцами из тёплой материнской утробы. В нос ударил запах хлорки, перемешанный с резким духом мочи и пота. Я с трудом разлепил глаза.
— Не надо воды, Танюша. Дай лучше обезболивающее.
Таня молча опустила взгляд. Несколько бутылей спирта в комнате медсестёр — вот и всё «обезболивающее» на полторы сотни раненых. Водку нам стали давать лишь в особо тяжёлых случаях: медицинская анестезия вышла в госпитале ещё неделю назад, и неизвестно было, когда ждать пополнения.
Раненый в голову худой офицер, ютившийся на койке в углу, что-то пробормотал во сне. Таня глянула на него: вчера бедняга бредил в горячке, грозя расправой невидимым врагам. Дела его плохи... В палате у нас десяток раненых, и над кем-то смерть уже затянула последнюю песнь. Некоторые солдаты выглядели потерянными и невидящим взглядом таращились в грязно-белые стены.
Подробнее Июль 1943 года
Я стою посреди бескрайнего василькового поля. Щурясь от яркого солнца, смотрю на свои огрубевшие в боях руки и вижу, что пальцы до сих пор неистово сжимают пулемёт, хоть фашистов мы разбили ещё вчера. Ветер лихо срывает пилотку с моей головы и уносит прочь. Всё позади! Война закончилась! Я швыряю оружие в сторону и захожусь радостным смехом. Хочу мчаться вперёд, в бесконечную синеву, но падаю, не в силах двинуть ногой…
— ...Семён, дать воды? — Голос медсестры вытащил меня в реальность.
Я почувствовал себя младенцем, которого насильно извлекли металлическими щипцами из тёплой материнской утробы. В нос ударил запах хлорки, перемешанный с резким духом мочи и пота. Я с трудом разлепил глаза.
— Не надо воды, Танюша. Дай лучше обезболивающее.
Таня молча опустила взгляд. Несколько бутылей спирта в комнате медсестёр — вот и всё «обезболивающее» на полторы сотни раненых. Водку нам стали давать лишь в особо тяжёлых случаях: медицинская анестезия вышла в госпитале ещё неделю назад, и неизвестно было, когда ждать пополнения.
Раненый в голову худой офицер, ютившийся на койке в углу, что-то пробормотал во сне. Таня глянула на него: вчера бедняга бредил в горячке, грозя расправой невидимым врагам. Дела его плохи... В палате у нас десяток раненых, и над кем-то смерть уже затянула последнюю песнь. Некоторые солдаты выглядели потерянными и невидящим взглядом таращились в грязно-белые стены.
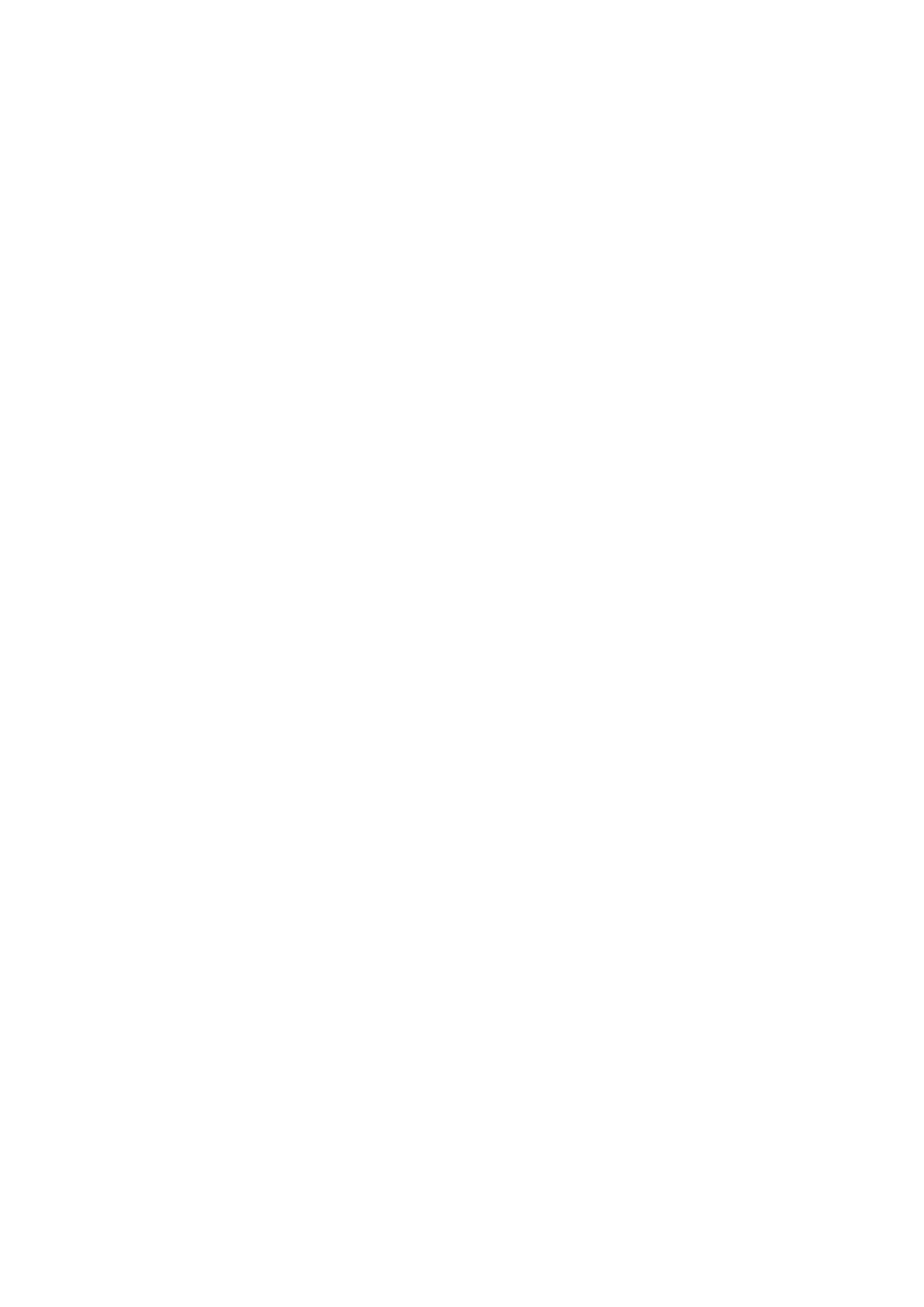
Лили и волшебные яблоки
Всем хорошо известно, что нельзя брать чужое. А если очень хочется и никто не видит?..
Маленькая Лили просто угостилась яблочками, которые лежали в забытой кем-то корзинке. И разве могла она подумать, что это обернется удивительным превращением, благодаря которому девочка попадет в волшебный сад и подружится с настоящей феей?
Сказка «Лили и волшебные яблоки» учит детей уважать и ценить труд других, рассказывает о милосердии и готовности защищать то, что дорого сердцу.
Подробнее Маленькая Лили просто угостилась яблочками, которые лежали в забытой кем-то корзинке. И разве могла она подумать, что это обернется удивительным превращением, благодаря которому девочка попадет в волшебный сад и подружится с настоящей феей?
Сказка «Лили и волшебные яблоки» учит детей уважать и ценить труд других, рассказывает о милосердии и готовности защищать то, что дорого сердцу.
Лили и волшебные яблоки
Жила-была на свете маленькая девочка по имени Лили. Однажды, гуляя в парке, она увидела на скамейке корзину с румяными яблоками. И ей вдруг так захотелось попробовать одно! Лили знала, что нельзя без спроса брать чужое. Но вокруг не было ни души, а корзина словно появилась из воздуха. Осторожно, будто ступая по тонкому льду, Лили приблизилась к скамейке.
«Похоже, что это ничейные яблочки. А значит, не случится ничего страшного, если я парочку съем», — рассудила девочка.
Она осторожно взяла яблоко, оглянулась украдкой и прихватила ещё одно. Затем проворно сунула их в карманы платья и быстро зашагала по дорожке вглубь парка.
Отойдя подальше от скамейки, девочка откусила по кусочку от каждого яблока — и вдруг парк завертелся перед её глазами, и Лили стала сдуваться, как воздушный шарик: пш-ш-ш! Её руки превратились в крылья, вместо носа появился клюв, а тело покрылось яркими пёрышками.
«Спасите!» — хотела крикнуть Лили, но из её горла вырвалось лишь лёгкое щебетание. Девочка не на шутку перепугалась, бросилась к ручью и в отражении увидела маленькую причудливую птичку.
«Не может быть! Неужели это я?!»
От удивления Лили забыла о страхе и с любопытством принялась себя разглядывать. С гладкой поверхности ручья на неё смотрела яркая птица с разноцветным хвостом и золотым хохолком. Лили осторожно расправила крылья: они сияли на солнце, как две радуги. Ну и чудеса!
Девочка так долго изучала своё отражение, что успела изрядно проголодаться. Она взмыла в небо и, на свою удачу, увидела внизу куст шиповника, усыпанный алыми ягодами.
«Ну уж нет! Не стану я теперь есть чужое, пока не выясню, кто тут хозяин!» — осмотрительно решила Лили: ей вовсе не хотелось снова в кого-нибудь превратиться.
Подробнее «Похоже, что это ничейные яблочки. А значит, не случится ничего страшного, если я парочку съем», — рассудила девочка.
Она осторожно взяла яблоко, оглянулась украдкой и прихватила ещё одно. Затем проворно сунула их в карманы платья и быстро зашагала по дорожке вглубь парка.
Отойдя подальше от скамейки, девочка откусила по кусочку от каждого яблока — и вдруг парк завертелся перед её глазами, и Лили стала сдуваться, как воздушный шарик: пш-ш-ш! Её руки превратились в крылья, вместо носа появился клюв, а тело покрылось яркими пёрышками.
«Спасите!» — хотела крикнуть Лили, но из её горла вырвалось лишь лёгкое щебетание. Девочка не на шутку перепугалась, бросилась к ручью и в отражении увидела маленькую причудливую птичку.
«Не может быть! Неужели это я?!»
От удивления Лили забыла о страхе и с любопытством принялась себя разглядывать. С гладкой поверхности ручья на неё смотрела яркая птица с разноцветным хвостом и золотым хохолком. Лили осторожно расправила крылья: они сияли на солнце, как две радуги. Ну и чудеса!
Девочка так долго изучала своё отражение, что успела изрядно проголодаться. Она взмыла в небо и, на свою удачу, увидела внизу куст шиповника, усыпанный алыми ягодами.
«Ну уж нет! Не стану я теперь есть чужое, пока не выясню, кто тут хозяин!» — осмотрительно решила Лили: ей вовсе не хотелось снова в кого-нибудь превратиться.
